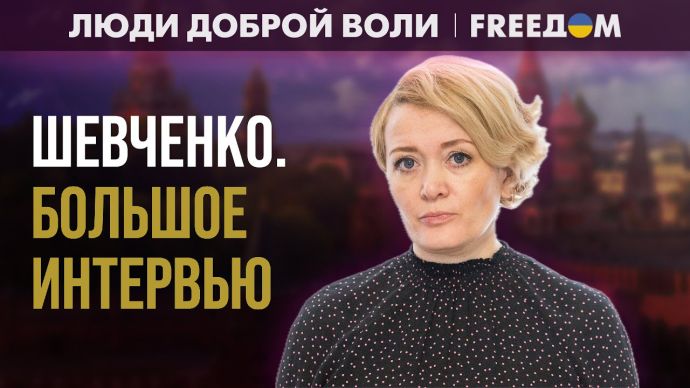Анастасия Шевченко — российская журналистка, общественный и политический деятель.
Родилась в Бурятии в 1979 году. Высшее образование получила в Иркутском лингвистическом университете. Публиковалась в региональной газете, вела программу о политических событиях в стране. Занявшись политикой, отстаивала права граждан.
Анастасия Шевченко — первый в России человек, на которого заведено уголовное дело по обвинению в участии в деятельности организации, признанной на территории России нежелательной. В феврале 2021 года приговорена к 4 годам лишения свободы условно.
Лауреат премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей. Признана Amnesty International “узницей совести”.
В 2022 году покинула Россию, осела в Вильнюсе. В РФ объявлена в розыск.
Анастасия Шевченко — гостья программы “Люди доброй воли” телеканала FREEДOM.
Ведущий — Сакен Аймурзаев.
Политический активизм
— Вы уехали из России. Как вы обосновались, чем сейчас занимаетесь?
— Я сейчас живу в Вильнюсе вместе с моими детьми и моей мамой. Мы уехали после начала полномасштабной войны из Ростова-на-Дону. Работаю в Антивоенном комитете России, работаю с российскими диаспорами. В Антивоенном комитете почти 20 участников, это люди совершенно разные, но объединенные одной позицией — мы все против войны и против преступного путинского режима. И мы все, по законодательству нынешней России, преступники и находимся в розыске.
— Но это получается больше активизм, не журналистика. То есть вы ушли из журналистики?
— Я вообще не ассоциирую себя с журналистикой. Для меня быть активисткой намного важнее. Наверное, то, что я делаю, называется политический активизм.
— Ваш отъезд спокойно ли прошел? Чувствуете ли вы себя в безопасности?
— Это было как в кино. Я же в России была на условном сроке, осуждена на четыре года условно. Поэтому уезжать приходилось ночью, спрятавшись за солнечными очками и кепкой. Сутки мы добирались в Литву с детьми и с собакой. Было страшновато, конечно. Но сейчас я чувствую себя безопасно.
В России не осталось близких родственников. Самый близкий родственник для меня — это моя мама, и она со мной. Братьев и сестер у меня нет. Папа умер, к сожалению. Поэтому я себя чувствую вполне безопасно.
Конечно, в РФ осталось много друзей, но мои каналы коммуникации с ними я не раскрываю, и надеюсь, они в безопасности.
— В России вы планировали стать политиком. Насколько в России возможно стать региональным, федеральным политиком?
— Меня частично из-за этого и арестовали. В моем уголовном деле один из эпизодов — участие в семинаре, посвященном подготовке к выборам. Я хотела участвовать в выборах, готовилась к этому.
Когда я участвовала в семинаре, пришла полиция, сказали, что на меня поступил донос и возбуждено административное дело, которое легло в основу уголовного. И уже, будучи под домашним арестом, я все равно участвовала в выборах, по крайней мере, пыталась. Это были городские выборы в Ростове-на-Дону, мы собрали подписи [для регистрации кандидатом] — но, конечно, эти подписи не пропустили
— Вы были арестованы как участница движения “Открытая Россия”. Российская власть уничтожала любую деятельность и преследовала людей, связанных с “Открытой Россией”. Это что-то личное? Это Путин не простил основателю движения Михаилу Ходорковскому, что он не исполнил обещание не идти в политику? Или это именно институциональная опасность таких организаций?
— Думаю, что главной причиной преследований”Открытой России” стала акция “Надоело”, которую мы проводили в апреле 2018 года. Мы стояли с плакатами. Ну, представьте себе — портрет, например, Кадырова и большие буквы “Надоело”, заклеен рот скотчем, то же самое было с Путиным и с остальными чиновниками. Акция прошла во многих городах. И буквально за пару дней до этой большой акции “Открытую Россию” объявили нежелательной организацией.
Путин очень чувствительный ко всему, что касается него лично. Как только ты начинаешь его унижать и высмеивать — жди дело на тебя.
— У вас также был опыт предвыборной деятельности вместе с Ксенией Собчак. Как изменилось ваше к ней отношение после начала полномасштабной войны? И вообще, как эволюционировало ваше отношение к ней, как к герою российской политики?
— На тот момент моя задача была — построить команду в Ростове-на-Дону, руководить штабом [Ксении Собчак как кандидата в президенты РФ на выборах 2018 года]. Мы тогда считали, что Ксения Анатольевна в политике надолго. И мы с командой думали тогда, что все перейдем в ее партию и будем дальше так же работать. Была прекрасная креативная команда.
Но после выборов она мне сказала: “Я только журналистка”. Это, конечно, было разочарование.
Наши дороги разошлись, понятно. И сейчас я понимаю, что в тех президентских выборах, конечно, участвовать не надо было. И не потому, что не допустили Навального, а потому что выборы проходили на захваченной территории в Крыму, в том числе. Тогда надо было четче эту позицию озвучивать. В 2014 году мы активно выступали против аннексии Крыма, мы четко обозначили, что против вторжения России, и что Крым должен быть украинским. А вот когда дело дошло до выборов, почему-то не построили вот эту параллель. Нужно было, конечно, больше протестовать, и не нужно было участвовать.
— А какова ваша позиция по так называемым выборам президента РФ, которые намечены на март 2024 года? И что бы вы сказали россиянам, жителям Ростова?
— Первое желание — это бойкот и не участвовать. Я не могу себе представить, как можно участвовать в выборах, когда люди под обстрелами. Части Херсонской и Запорожской областей, Донецк, иные захваченные территории, где людям насильно вручают российские паспорта и с оружием приезжают домой на надомное голосование. Как агитировать людей участвовать в такой компании?
Но мои друзья в России писали, что дайте нам хоть какой-то шанс выразить протест. Другого шанса у нас, к сожалению, нет. Хотя бы прийти на участки и сказать “нет”.
Мы на встрече Антивоенного комитета приняли решение — сказать “нет” Путину на этой, скажем так, выборной кампании. В какой форме мы это скажем — мы сейчас договариваемся. Говорили о том, что у российской оппозиции точно будет единый медиаконтент, мы будем продвигать идею — “Скажи Путина “нет” на участке”. Сторонникам бойкота мы тоже предложим какие-то действия уже ближе к выборам. Будем проводить антивоенную кампанию от очередной годовщины войны до дня выборов Путина. (У нас же только выборы Путина бывают).
Как менялся Ростов за время войны
— Большая часть вашей жизни связана с Ростовом, с Ростовской областью. Как менялась от года к году ситуация в Ростове, учитывая, что это приграничный регион, что это большой военный центр?
— Еще в2010 году ходил поезд в Харьков. Моя мама могла сесть и приехать к своей сестре в любое время. Можно было приехать в украинский Крым без всяких преград. И все было спокойно и хорошо.
2014 год — вторжение в Крым. Я помню на вокзале в Ростове тысячи людей, віезжавших из Украины, пол полностью был застелен телами: дети, женщины, все спали на полу на вокзале, потом их куда-то там распределяли. Очень много появилось беженцев в Ростове-на-Дону, и очень много появилось людей в военной форме. И это были не военные, а такие, знаете, небритые люди, которым раздали оружие, в такой неопрятной камуфляжной форме. И уже было небезопасно. Сложно было устроить детей в садик из-за большого количества беженцев, и ростовчане сильно возмущались по этому поводу. В общем, было совсем не как в Москве, мы все-таки — приграничный регион.
Люди из так называемой “ДНР” приезжали на Ростовский рынок с пачками денег наличных, потому что у них не было банковских карт, или были карты, но они могли обналичить их только в Ростове-на-Дону, у них банки не работали. Появился рейсовый автобус на вокзале, ходил каждые полчаса.
Помню, когда мне разрешили прогулки под домашним арестом, у меня был большой соблазн — вот сейчас сесть, поехать в “ДНР”, а потом сбежать в Украину.
А когда началась уже полномасштабная война, это еще больше сказалось на городе.
Во-первых, где-то за месяц ко мне приехали правозащитники, они спасали парня из коренных народов. Этой народности всего осталось 25 человек, и его призвали. Скопление войск было на границе России и Украины, и он был там. Правозащитники его в итоге нашли, выцепили и отправили домой.
Потом мне начали поступать звонки от моих знакомых из Бурятии (я родилась в Бурятии), что целые эшелоны поездов идут с солдатами в Ростовскую область. Они рассказали, что ребята испуганные выбегали на вокзале, просили мобильный телефон позвонить, сообщить родственникам, что их куда-то везут, вроде как, в Ростовскую область, вроде как, на войну.
Мне люди говорили: “Ну, не может быть, какая война? Какой повод Украина дала, если это братский народ?” Я говорила: “Да, будет война”. Но через неделю после начала войны эти же люди говорили: “Ну, а как же дети Донбасса, которых нужно спасать?” Очень быстро в сознании уместилась версия пропаганды, и люди стали быстро использовать эти “аргументы”.
С началом войны в Ростове появилось еще больше военных. В городе расположен штаб Южного военного округа (который в июне Пригожин захватил), я там рядом жила. Вокруг него сразу выставили военную охрану, и как-то было жутковато даже в школу с сыном идти, потому что они в балаклавах, с закрытыми лицами, с автоматами, все упакованы.
Появились эти буквы Z и V на улице. После вторжения в Крым в Ростове установили памятник “вежливым людям”. И с начала полномасштабной войны там появились свежие цветы — то есть было понятно, что российские военные гибнут каждый день. Это был единственный, пожалуй, признак, потому что другой информации в новостях нигде не было.
— А силовики стали активнее себя вести по отношению к гражданским?
— Да, нам, активистам, закручивали гайки. Все больше арестов, все больше “казачьих дружин”, которые писали доносы на активистов. Я была на условном сроке, и когда началась война, меня вызвали и сказали, что теперь вообще из города выезжать нельзя, хотя, по приговору, я могла выезжать. Но попросили больше не выезжать.
Конечно, все стало намного строже, и полиция лютовала. Поэтому я была очень удивлена, когда в июне был этот бунт Пригожина, то в здании полиции Ленинского района (оно очень большое, находится через дорогу от штаба Южного военного округа) все исчезли. Не было вообще никого. То есть они только против активистов работают.
— Вы упомянули “казачьи дружины”. Они чаще всего курировались Русской православной церковью. Я знаю, что в Ростове абсолютно мракобесный митрополит РПЦ, который тоже поддерживает эти движения. Насколько, в принципе, казачье движение серьезное, а не собрание ряженых и реконструкторов?
— Я их абсолютно так же называла, за что они на меня донесли, поцарапали мне машину и завели административное дело. Я тоже считаю, что это такие ряженые, которые находятся на подработке у полиции. Они ведут себя совершенно развязно, они могут быть нетрезвые, могут быть крайне жестоки. Например, когда открывали штаб Навального в Ростове-на-Дону, автобусами привезли где-то 120 казаков, они забаррикадировали нас в гостинице в центре города, ребята выпрыгивали из окон, они их валили на землю, били плетками и пинали. В это время рядом стояла полиция, которую мы вызывали, и ничего не делала совершенно. То есть это просто такое подразделение на подработке у полиции.
Рост жестокости
— Вы затронули тему жестокости тех же казаков, силовиков. Такое ощущение, что вся Россия превратилась в одну станицу Кущевскую, где с особой жестокостью в 2010 году ОПГ Цапки убили и сожгли 12 человек (в том числе четырех детей).
— Это для меня личная история, потому среди погибших — Владимир Мироненко, финансовый директор компании (агрофирмы из Ростова, — ред.), с которой я на тот момент работала. Мы с Владимиром вечером виделись, он с семьей поехал в гости к другу в станицу Кущевскую, и на следующий день он погиб, погибла вся его семья — две маленькие дочки, его жена. Цапки все трупы сложили в одну кучу и подожгли.
Это была такая жестокость, которую сложно вообще представить. Она шокировала действительно многих. Все знали, что банда Цапков была связана с властью, всем хотелось добиться справедливости. И, казалось бы, их посадили. Но уже через полтора года мне присылали фотографии Цапков, как они в колонии сидят за огромным столом, едят шашлык, выпивают.
Думаю, Цапки уже давным-давно на свободе. Вот как тот же организатор убийства Политковской воевал в “СВО”, был помилован и ходит по одним улицам с россиянами. (Бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет за организацию убийства журналистки Анны Политковской, участвовал в “СВО” и получил помилование, — ред.)
Это страшно, что этих убийц отправляют на фронт. Что они там делают? А потом кто-то не верит в то, что произошло в Буче. У них же совершенно развязаны руки — иди убивай, делай, что хочешь. Это жутко, и сейчас этих историй все больше и больше.
— Кущевка была не 100 лет назад, это был 2010 год. Как получилось, что за эти годы культура сверхнасилия победила в России, что такие же “цапки” сейчас у власти?
— Это название стало нарицательным в России. И сейчас у большинства людей за рубежом от одного российского флага или от одного слова “Россия” так же все сворачивается от ужаса. Поэтому я соглашусь, что как будто мы все в стране в одну большую Кущевку превратились.
И все эти солдаты “СВО“, которые пошли туда из тюрем, отсидев буквально полгода, и возвращаясь с войны они снова убивают, сжигают с домами своих родственников, друзей. Это норма. Как от этого спастись? Никак. Пока не остановится война, пока не сменится власть.
— А удается ли вам на Западе в контактах с коллегами, с иными людьми провести грань между преступлениями режима и народом, который не поддерживает это?
— У меня нет задачи — доказать кому-то, что есть хорошие русские, а есть не очень хорошие русские. Иногда бывает обидно, что ты последовательно выступал против Путина и против войны в то время, когда на Западе, допустим, с Путиным еще и руку жали и торговали с ним успешно. Ты уже тогда говорил, что Путин террорист, но тебя никто не слышал. А сейчас ты оказался все равно плохой.
Но я понимаю, что в этом есть и наша вина, надо было протестовать больше.
Я потеряла свою дочь в борьбе с этим режимом (31 января 2019 года в реанимации умерла старшая дочь, в этот период Анастасия находилась под домашним арестом, — ред.). И вторая моя дочь иногда спрашивает: “Ты не жалеешь?” Я жалею, что мы мало делали, надо было делать больше.
Поэтому сейчас можно доказывать, только что-то делая: например, помогая тем, кто в России в тюрьмах сидит, сохраняя активистов, которые в России остались, помогая военнопленным и гражданским украинцам, помогая искать украинских детей. Можно очень много делать. Просто нужно это делать сейчас, не раздумывая о том, достаточно мы хорошие или недостаточно, обижают нас или не обижают. Надо просто работать.
Россия после Путина
— Какой будет Россия после Путина?
— Будет тяжело. Я хочу вернуться в Россию, но я не строю иллюзий, что после Путина будет очень хорошо, и что мы все заживем счастливо в “прекрасной России будущего”. Я терпеть не могу термин “Россия будущего”, потому что хотелось бы, чтобы люди думали о настоящем, а не о каком-то заоблачным будущим, во-первых. А во-вторых, оно не будет прекрасным.
Нам нужно отвечать за преступления режима, а Путин за них отвечать не будет. Возможно, он сядет или умрет, но дальше ответственность с исторической точки зрения нести нам.
Путин никогда не скажет украинцам “простите”, никогда не преклонит колени в Буче.Это нужно будет делать нам. И это будет очень долгий путь.”Нам” — это не российской оппозиции, я всем россиянам, которые дальше будут жить в России. Потому что к власти может прийти любой: это может быть какой-то, условно,Мишустин или Кириенко, это могут быть, вообще, какие-нибудь националисты, кто угодно. И, возможно, период турбулентности затянется на десятки лет.